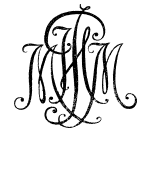«Жар-птица» русского зарубежья
Очередной рассказ из цикла «Жемчужины Ленинки» — о журнале «Жар-птица», который издавался на русском языке в Берлине с 1921 по 1926 годы.
Все повыжжено, порублено,
На полях густеет новь.
Только в сердце не погублена
Наша горькая любовь...
Кальма
 Слева: обложка журнала «Жар-Птица», август 1921, № 1. Обложка и книжные украшения воспроизведены с рисунков художника Сергея Чехонина, выставленных в 1914 году на Международной выставке книги и гравюры в Лейпциге. Справа: обложка журнала «Жар-Птица», сентябрь 1921, № 2.
Слева: обложка журнала «Жар-Птица», август 1921, № 1. Обложка и книжные украшения воспроизведены с рисунков художника Сергея Чехонина, выставленных в 1914 году на Международной выставке книги и гравюры в Лейпциге. Справа: обложка журнала «Жар-Птица», сентябрь 1921, № 2.
Этот литературно-художественный журнал носил сказочное название «Жар-Птица» . В течение пяти лет (с 1921 по 1926 год) он выходил в Берлине. В городе, фактически ставшем второй столицей России. «Русских собралось такое количество, — пишет историк-архивист Виктор Леонидов, — что ходил анекдот о немце, который повесился, отчаявшись услышать хоть слово на родном языке. Русские издательства, журналы, газеты, общества закрывались и открывались, эмигранты свободно общались с советскими гражданами и даже публиковались в одних и тех же изданиях».
В круг авторов «Жар-Птицы» входили Константин Бальмонт, Леонид Андреев, Надежда Тэффи, Борис Пильняк, Алексей Ремизов, Владимир Набоков (под псевдонимом В. Сирин), Владислав Ходасевич, Иван Соколов-Микитов и ещё целый ряд литераторов. Печатались обзоры и рецензии критиков. Отдел хроники регулярно отчитывался о театральных премьерах и вернисажах. Обложки оформляли Иван Билибин, Борис Кустодиев, Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Борис Григорьев и другие известные художники. Тираж — примерно 300 экземпляров. Когда дела нового издания пошли в гору, начали давать параллельный английский перевод текстов. «Русские эмигранты... занимаются сплетнями и обвинениями друг друга, — сетовала газета „Время“. — Но вот появилась „Жар-Птица“ и показала нам, что русское искусство живо, оно по-прежнему велико и мы можем им гордиться».
Несколько слов о тех, кому издание было обязано существованием. Его финансировал Александр Коган — владелец берлинского издательства «Русское искусство» (в дореволюционной России он был известен как основатель газеты «Копейка»). Редактором художественного отдела «Жар-Птицы» стал искусствовед, летописец петербургской неоклассики Георгий Лукомский. Литературным отделом заведовал поэт Саша Чёрный — одновременно весёлый и очень грустный человек, о чём свидетельствует его творчество.
«Я русский обыватель»
Саша Чёрный задорно декларировал: «Я русский обыватель, я просто жить хочу!» Но почти в каждом номере появлялись его стихи совсем не обывательского толка.
Качается пристань на бледной Крестовке,
Налево — Елагинский мост.
Вдоль тусклой воды серебрятся подковки,
А небо — как тихий погост...
По интонации — прямая перекличка с шутницей и печальницей Надеждой Тэффи:
На острове моих воспоминаний
Есть серый дом. В окне цветы герани.
В тяжелой двери медное кольцо,
А рядом шнур, ведущий к фонарю...
Я никогда ту дверь не отворю.
В 1931 году Саша Чёрный написал поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», где упомянул пёструю компанию — учёных, писателей, таксистов, кинобарынь, растратчиков. И сделал вывод: никому не хорошо, «искать Жар-птицу в погребе — занятие бесплодное».
Он умер во Франции в 1932 году, всего пятидесяти с лишним лет. Помогал соседям тушить пожар, а на следующий день случился инфаркт. На могильной плите высечена строка «Жил на свете рыцарь бедный». Говорили, что его собака легла на грудь своего хозяина и скончалась от разрыва сердца. В свое время поэт прославил её в «Дневнике фокса Микки». Собака, «умней которой в мире нет», делится там своими соображениями по поводу людей.
 Слева: обложка журнала «Жар-Птица», октябрь 1921, № 3. Обложка воспроизведена по рисунку Бориса Кустодиева. Справа: обложка журнала «Жар-Птица», декабрь 1921, № 4—5. Обложка воспроизведена по рисунку Ивана Билибина.
Слева: обложка журнала «Жар-Птица», октябрь 1921, № 3. Обложка воспроизведена по рисунку Бориса Кустодиева. Справа: обложка журнала «Жар-Птица», декабрь 1921, № 4—5. Обложка воспроизведена по рисунку Ивана Билибина.
«Но всё-таки живем»
Безусловная заслуга издания в том, что в нём печатались произведения даровитых авторов, чьи имена были прочно забыты в советскую эпоху. В их числе — Георгий Гребенщиков, создавший эпопею «Чураевы» об алтайском старообрядческом роде. Между прочим, в 1909 году он, будучи еще молодым человеком, совершил паломничество в Ясную Поляну и произвёл хорошее впечатление на Льва Николаевича Толстого.
В одном из номеров журнала опубликован самобытный рассказ Гребенщикова «Полынь-трава»: «Велика степь Тарабинская, разбрелись по ней деревни, как стадо без пастуха — земли так много, что мужики отвыкли любить её, разучились хорошо распахивать и почти каждый год сеют по новой, а старую запускают, и от этого всё больше растет горькая трава-полынь. А дальше — отравляет сено, горчит хлеб и даже молоко. Должно быть, оттого и люди на Тарабае хмурые и злые, как будто полынь попала в их кровь». Притча о всеобщем нерадении. Об отсутствии главного цементирующего состава — взаимной приязни.
Все пытались осмыслить свершившееся с их страной. Об агонии Серебряного века размышлял Алексей Толстой: «Перед гибелью Российской империи искусство было одним воплем смертельной тоски. В живописи — изысканность, сладострастие формы; в поэзии — белая дама; в романе — проповедь самоубийства; в музыке — наиболее ясновидящем из искусств, — пылающий хаос. Век был изжит».
Горечь от бесчисленных потерь пытались смягчить ностальгическими прогулками в прошлое: «Небо ровное, цвета осенней конопли... фонари теряют силу. Горит шапка Христа Спасителя. Скоро солнце зажжет ослепшие окна; уже тенькает на Арбате трамвай. У Иверской чисто глаза детские, светятся свечи болеющих духом, обиженных, мятущихся».
Это Александр Дроздов — ещё одно малознакомое нам имя. Хотя был одним из самых видных писателей русского Берлина. Последовав примеру «красного графа» Толстого, Александр Михайлович в 1923 году вернулся на родину. Прожил ещё сорок лет и умудрился не попасть в лагеря. Более того, работал в толстых журналах и активно творил. Его герои — эмигранты, солдаты революции, проститутки эпохи нэпа, сознательные советские граждане. Но ничего значительного уже создано не было.
Надо сказать, тональность бунинских «Окаянных дней» в журнале всё же не доминировала. У издателя не было намерения превратить его в рупор отчаяния. В контекст органичнее вписывались произведения, подобные «Душе» Бориса Зайцева, писателя по-христиански кроткого и мудрого: «Дом поповский, жизнь поповская, сам поп... Мы за столом запиваем чай со сливками лепешками. Кот приходит. Дети за перегородкой. Образа слабо золотят в уголке. Так тихо, так все благозвучно, светло, мирно. Точно озеро безмолвия и чистоты. Многое сожжено, попалено; как в видимости, так и в душе. Но мы живём. И мы за что-то заплатили: за свои неправды, за прошедшее. Меч Немезиды многое сразил. Но всё-таки живем. И даже чай пьем на террасе маленького дома и обедаем в дни тёплые».
 Слева: обложка журнала «Жар-Птица», январь 1922, № 6. Обложка воспроизведена по рисунку Леонида Браиловского. Справа: иллюстрация Ивана Билибина из журнала «Жар-Птица», август 1922, № 8.
Слева: обложка журнала «Жар-Птица», январь 1922, № 6. Обложка воспроизведена по рисунку Леонида Браиловского. Справа: иллюстрация Ивана Билибина из журнала «Жар-Птица», август 1922, № 8.
Московский Художественный и Чехов
Европейские гастроли Московского Художественного театра в начале двадцатых охотно комментировали. Событие, сопоставимое с «дягилевскими сезонами». Правда, без того триумфа. Зрители — «русские без отечества» — оценивали спектакли через призму недавно пережитого. Многие коллизии казались им уже не столь существенными. Даже «Три сестры» принимали так себе. А вот «Вишневый сад» — куда лучше. Животрепещущая тема: гибель родового гнезда.
Мыслитель Шекспир — автор беспроигрышный. В номере, посвященном гастролям, есть фото 47-летнего Качалова в роли Гамлета. Предоставлена и редкая возможность увидеть молодую Тарасову, по-своему интерпретировавшую образ Офелии. Ольга Книппер-Чехова, актриса МХТ, писала Станиславскому: «Прекрасный нерв, лицо, но неопытна еще».
В «Жар-Птице» жена любимого нами писателя рассказывает о его кончине. Стилем Ольга Леонардовна не блещет, интонации разговорные, и потому, быть может, её повествование особенно трогает: «Даже за несколько часов до своей смерти он заставил меня смеяться. После трёх тревожных дней ему стало легче к вечеру. Он отослал меня пробежаться по парку, так как я не отлучалась в эти дни. Когда я пришла, Антон Павлович начал придумывать рассказ, описывая модный курорт, где много жирных банкиров, краснощеких англичан и американцев, и вот все они, кто с экскурсий, кто с катанья, собираются с мечтой хорошо пообедать. И вдруг оказывается, что повар сбежал и ужина нет. Как этот удар по желудку отразится на избалованных людях. Я сидела на диване и от души смеялась... Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: „Давно я не пил шампанского“. Покойно выпил до дна, тихо лёг на левый бок и вскоре умолкнул навсегда...»
 Обложка и иллюстрация из журнала «Жар-Птица», январь 1923, № 12. Обложка воспроизведена по рисунку Михаила Ларионова. Иллюстрация Ивана Билибина.
Ссылка
Обложка и иллюстрация из журнала «Жар-Птица», январь 1923, № 12. Обложка воспроизведена по рисунку Михаила Ларионова. Иллюстрация Ивана Билибина.
Ссылка
Книжных дел мастера
Огромную роль в популярности издания сыграло его оформление. И то, что там публиковались рецензии на картины, написанные блестящими стилистами. Алексей Толстой с видимым удовольствием погружается в мир дворянских усадеб и балаганов Судейкина. Марк Алданов следует взглядом за парящими в пространстве персонажами Шагала. Заворожен григорьевскими ликами Сергей Маковский: «Россия Бориса Григорьева — не святая Русь Нестерова; не чеховско-левитановская, в лёгкой дымке, как будто сквозь слезы смотришь на нее. Григорьев писал Рассею, исконную, черноземную. У него и краски бурые, цвета земли. И лица — похожи на ландшафты... все в рытвинах, морщинах, трещинах».
Художественный критик Маковский в статье «Русская графика нового века» отмечал повышенный спрос на русские художественные издания. При этом издательствам приходится работать в специфических эмигрантских условиях, «по большей части убийственных для эстетики».
Утонченное ретро культивировали в первую очередь «мирискусники»: «Самый живописный — Бенуа. Он переносит в книгу кудреватую манеру своих набросков... Добужинский довёл технику книжной надписи и виньетки до предельной чёткости узора. Новая русская книга художнику Лансере, прежде всего, обязана изысканностями заглавных шрифтов и затейливых концовок».
Всё это соответствовало эстетическим критериям начала века: «В 1900-е годы книги приобрели черты сходства с альманахами начала минувшего века. Обложки, виньетки, шрифты, — всё стало отдавать александровской старинкой. Иначе говоря, русский книжный „модерн“ как-то сам собой облёкся в прадедовский наряд».
 Слева: обложка журнала «Жар-Птица», январь 1926, № 14. Обложка воспроизведена по рисунку Ивана Билибина. Справа: журнал «Жар-Птица», январь 1923, № 12. Рисунок Натальи Гончаровой «Избиение младенцев».
Слева: обложка журнала «Жар-Птица», январь 1926, № 14. Обложка воспроизведена по рисунку Ивана Билибина. Справа: журнал «Жар-Птица», январь 1923, № 12. Рисунок Натальи Гончаровой «Избиение младенцев».
Вниманию элегантной публики
Здоровую дозу витальности вносила реклама. Читателю льстили и внушали мысль о том, что именно он достоин самого лучшего. Курильщикам предлагались папиросы «Калмык»: «Смесь табаков отвечает всем требованиям знатока». Никакой антиникотиновой кампании и грозных предупреждений насчёт безнадёжно подорванного здоровья. Под картинкой с пузатой посудиной сообщалось: «Производство настоящих русских самоваров. Срочная доставка. Экспорт во все страны мира». Вот это размах! Эстеты могли рассчитывать на «копии музейных картин на фарфоре» или «подстановки для ламп по наброскам лучших художников». Элегантная публика — на стильные автомобили.
Тексты сопровождались иллюстрациями. Нарядные полнотелые дамы, взирающие с фотографий, призывали застраховать свои меха и бриллианты. Женская аудитория подвергалась хоть и деликатным, но настойчивым атакам. К её услугам — всё! Огромный выбор модных перчаток. Духи-фантазия «Mystikum Parfum». Пояса «Gentila», которые «придают фигуре моложавость, строго преследуя соответствие анатомическому строению тела». Встречалась также реклама периодики: «Русские эмигранты, где бы они ни жили, всюду читают демократическую газету „Руль“. Объявления в „Руле“ — вернейший путь сношения со всем миром». Кстати, среди организаторов газеты был и Владимир Набоков.
Четырнадцатый номер оформлен скромнее, чем предыдущие. Почти нет рекламы. Где-то в середине мелькает суховатое сообщение, что «Жар-Птица» вышла в свет в Париже и посвящена русским, подарившим французам встречу со своим творчеством — Ивану Билибину, Александру Бенуа и певцу Александру Мозжухину. О прославленном басе, исполнившем партию Годунова, говорилось особенно восторженно. Он произвёл сенсацию, буквально влюбил в себя придирчивую западную публику.
И ни слова о закате журнала. Видимо, тлела надежда как-то поправить дела. Но не удалось. Однако и уже сделанного оказалось достаточно, чтобы занять достойное место на огромном материке «Русское зарубежье».
В 1922 году в Государственной библиотеке имени В. И. Ленина по постановлению Совнаркома был организован отдел специального хранения литературы, предназначенный для «неправильных» изданий — религиозных, антибольшевистских, антисоветских. Недоступные читателям, они всё же спаслись от физического уничтожения. В 1988 году спецхран прекратил существование, и всё сокрытое в его недрах поступило в библиотечные фонды. В 1991 году в РГБ появился отдел литературы русского зарубежья, где можно познакомиться и с уникальным собранием эмигрантской периодики. В двадцатые годы одним из самых ярких её образцов стал журнал «Жар-Птица».